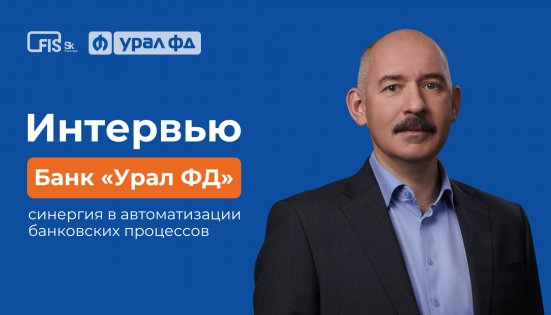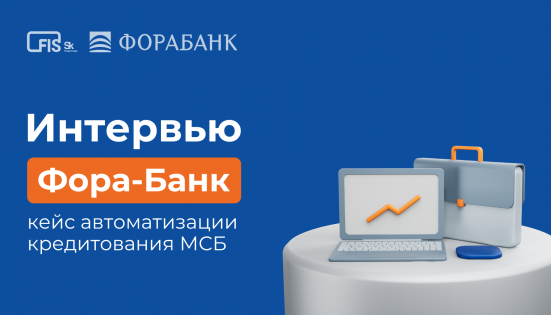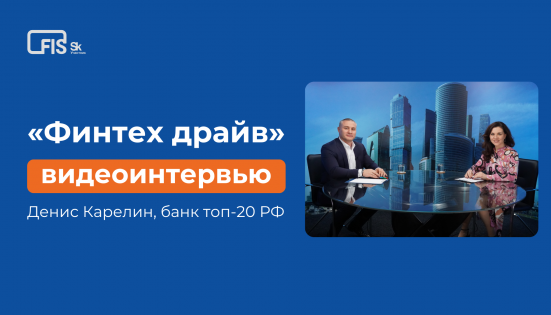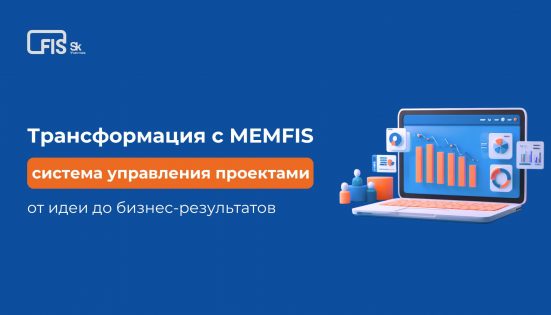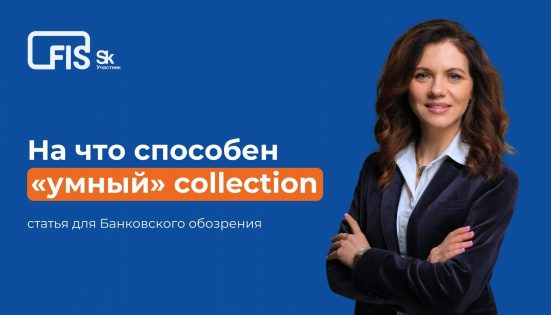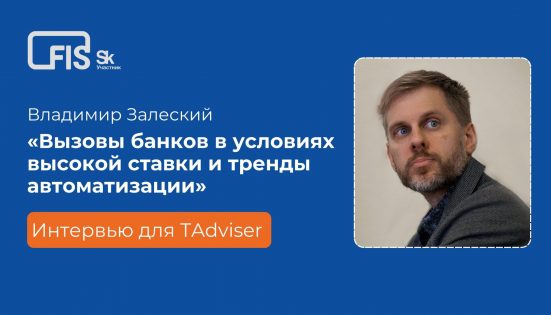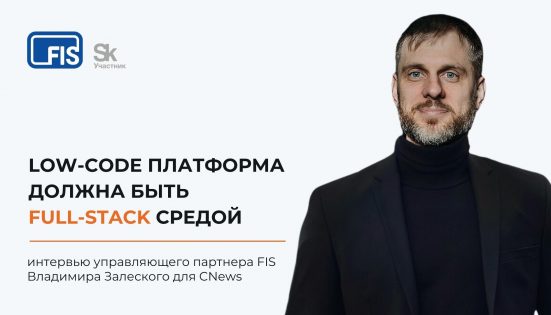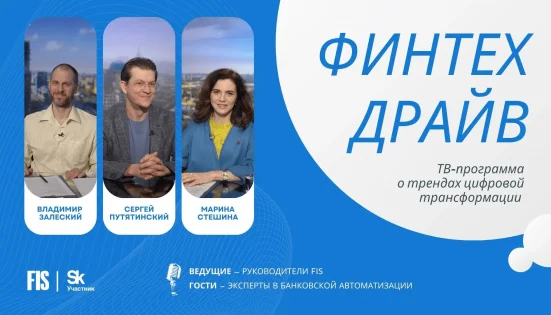Каковы актуальные тенденции развития финтеха в России? Какие этапы преодолевает МосБиржа в процессе цифровой трансформации? Как разумно внедрять low-code технологии в ходе автоматизации? На эти и многие другие вопросы отвечает Андрей Бурилов, IT-директор МосБиржи, в гостях у программы «Финтех-Драйв» и ее ведущих Владимира Залеского, управляющего партнера FIS, и Марины Стешиной, директора по развитию FIS.
Посмотреть интервью в видеоформате можно на нашем YouTube-канале.
— Владимир Залеский, ведущий программы и управляющий партнер FIS: Здравствуйте, дорогие зрители. С вами программа «Финтех-Драйв», я, ее ведущий Владимир Залеский, и моя коллега Марина Стешина.
— Марина Стешина, директор по развитию FIS: Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Андрей Бурилов, директор по IT и член правления Московской биржи. Здравствуйте, Андрей.
— Андрей Бурилов, CIO МосБиржа: Здравствуйте, коллеги.
— Марина Стешина: Давайте перейдем к вопросам. Наш первый вопрос будет касаться развития финтеха в России. Финтех в России считается одним из самых передовых и, конечно, неразрывно связан с IT-технологиями. Московская биржа – один из ведущих институтов на финансовом рынке, который в какой-то степени задает тренд развитию рынка финтеха. Поделитесь с нами, какие тенденции будут на рынке финтеха в этом году в России?
— Андрей Бурилов: Действительно, российский рынок финтеха развит куда сильнее, чем западный. Это связано с тем, что Россия гораздо позже начала заниматься развитием этой отрасли, у нас нет большого «легаси». Поэтому у нас более продвинутые интернет-банки, более продвинутый подход к цифровизации.
Московская биржа изначально строилась, как цифровая биржа – соответственно, мы больше не торгуем «крича в ямах», все наши процессы работают в цифровых системах.
Сложно назвать более яркий тренд 2022 года, чем импортозамещение. Но если не принимать во внимание известные события, то основной тренд – это переход на опенсорсные продукты, на удешевление того, чем мы владеем, и на постепенный отказ от сложных решений. Сегодня мы ищем оптимальное соотношение между тем, что сервис может дать компании, как он ее ограничивает – не секрет, что чем крупнее система, тем жестче рамки. Бизнес ищет решений по принципу «здесь и сейчас», и IT – в ответ на этот запрос – обеспечивает автоматизацию.
— Марина Стешина: То есть вы пророчите финтеху большое будущее, и в текущем и в следующем году?
— Андрей Бурилов: Всенепременно. IT всегда высоко востребован и, соответственно, сегодня востребован еще сильнее, чем прежде. Цифровизация и дальнейшая автоматизация – это тренд.
— Владимир Залеский: Цифровая трансформация МосБиржи идет очень активно. Какие основные этапы этого процесса проходит и будет проходить ваша компания? Отсмотреть ответ можно либо в разрезе фронт-офисных, милд-офисных и бэк-офисных систем, либо в разрезе инфраструктуры – есть ли какие-то этапы по работе с «железом», серверами или, например, с телекоммуникационными системами. Нам интересно понять, есть ли какая-то этапность трансформации и что она представляет в целом.
— Андрей Бурилов: В нашем случае мы не говорим о цифровой трансформации, потому что МосБиржа – уже давно цифровая организация. Мы говорим о следующих этапах IT-стратегии и поддерживающей ее бизнес-стратегии.
Во-первых, сегодня мы «поворачиваемся к клиенту лицом», то есть фокусируемся на клиентоориентированность и унификацию подходов, на облегчении доступов к инструментам, которые мы предоставляем. Например, мы уже начали разрабатывать B2C-сервисы, то есть стараемся предоставлять клиентам доступ к различной полезной информации – вкладам, кредитам, страховкам. Почему мы выбрали такой путь развития? Потому что биржа – это своего рода маркетплейс.
Также сейчас мы полностью переделываем наш сайт, чтобы сделать его более клиентоориентированным. Ведь исторически биржа была B2B-площадкой, на ней не так много внимания уделялось подаче информации. С активным развитием маркетплейса и B2C мы перешили улучшить наш цифровой имидж в глазах клиентов.
Во-вторых, мы активно занимается развитием внутренних процессов, так называемых STP. То есть мы автоматизируем подходы к тому, как проходит информация внутри компании. То, что торговля на бирже идет автоматически, не означает, что и внутренние процессы – генерация отчетов, параметров – не проходят вручную. Наша задача минимизировать операционные риски для этих процессов, поработать над тем, чтобы автоматизировать этот подход. Сейчас много времени тратится на то, чтобы «научить» систему автоматически распознавать большие объемы информации в целью построения автоматизированных алгоритмов, которые будут сами выставлять те или иные нужные параметры.
— Владимир Залеский: Последние несколько лет МосБиржа начала разворачиваться в сторону B2C-процессов, происходит формирование розничного портфеля. Есть ли такое, что сейчас процесс автоматизации больше завязан на розничное направление? Или оба сегмента развиваются параллельно?
— Андрей Бурилов: Большое количество розничных инвесторов, работающих на МосБирже, заставляет нас все же больше говорить о той типизации, которую мы даем в B2B-сегменте. В этом отношении мы активно развиваем и школу Московской биржи, и дорабатываем удобную подачу информации на сайте.
B2C-услуги маркетплейса – это новое направление для МосБиржи. Но здесь мы точно также, как в B2B-сегменте, уважаем наших клиентов. Поэтому никакого перекоса в развитии обоих сегментов у нас нет, скорее это синергия того опыта, что у нас был, с тем запросом, который сейчас есть.
— Марина Стешина: Сегодня на рынке актуален тренд обеспечения цифрового суверенитета. С этим связана и тенденция на импортозамещения. Как вы считаете, насколько реально полное импортозамещение на финансовом рынке России в ближайший год-два? Например, в части автоматизации, программного обеспечения.
— Андрей Бурилов: То есть речь о так называемой софтверной разработке, программных продуктах.
Здесь ситуация интересная, это своего рода развилка. С одной стороны, есть реестр Минцифры, где учтены все продукты, которые можно прямо сейчас брать и использовать. Впрочем, сейчас он активно пересматривается каждый день. С другой стороны, существуют опенсорсные решения. Можно ли их считать отдельным ПО? Ведь всегда можно сделать полный форк на основе опенсорсного решения и пользоваться продуктом собственной разработки. Или не делать его и помочь в развитии комьюнити в целом.
На мой взгляд в этой ситуации есть два основных направления:
- Есть нишевые сегменты, на которых зиждется сам бизнес. В них импортозамещение произойдет достаточно быстро.
- Более специфичные решения – такие, как предоставляли SAP, Oracle – будут замещаться медленнее.
То есть простые решения – например, базы данных, – быстро найдут себе аналоги в отечественных решениях. А вот с разработкой продуктов для выстраивания бизнес-логики будет дольше. И это связано не с бюрократией, а со сложностью самих процессов такого рода. Здесь можно опереться на принцип Парето: наиболее распространенные и функциональные решения (80%) подвергнуться быстрому импортозамещению, а более кастомные системы будут заменяться дольше.
Особняком здесь стоят такие продукты, как операционные системы, офисы. Сейчас почти все компании де факто используют либо Microsoft, либо Apple. Как будет развиваться ситуация с ними? Покажет время. Мы живем в рыночном обществе, а потому – победит сильнейший.
— Владимир Залеский: Но есть же рекомендации по использованию систем в определенных отраслях?
— Андрей Бурилов: Конечно. Но это только рекомендации, а не требования.
— Марина Стешина: Какие приоритеты стоят у Московской биржи с точки зрения импортозамещения?
— Андрей Бурилов: Мы разделили этот процесс на три основных направления:
- Все, что связано с инфраструктурой – оборудование, «железо». На бирже используется так называемая техническая политика, которая позволяет нам иметь самое свежее и актуальное оборудование, поэтому в следующие несколько лет мы будет чувствовать себя достаточно спокойно в этом отношении.
- Программные продукты и разработки. Сейчас мы составляем перечень того, какие продукты у нас есть, что мы используем. Наши торговые системы полностью написаны нами – в этом отношении нам не требуется никакого импортозамещения. Замене будут подлежать CRM-системы, системы хранения и подобные решения.
- Подписки. Сервисы, которые мы потребляли, как маркет-дату, то есть как агрегированную информацию других бирж. Сейчас мы сами становимся провайдером такой информации.
— Владимир Залеский: То есть вы планируете выступить, как сервис импортозамещения. То есть вы сами будете что-то процессировать и предлагать?
— Андрей Бурилов: У нас и так развиты сервисы по вычислению индексов, по предоставлению маркет-даты. Поэтому здесь вопрос больше о том, какую именно маркет-дату мы будем предлагать клиентам? Исторически мы предоставляли только ту маркет-дату, которую сами производим. Но теперь, возможно, мы будем представлять не только ту информацию, которая генерируется на Московской бирже.
— Владимир Залеский: То есть то, что раньше компании брали с открытого рынка, сейчас, в силу различных ограничений, может стать еще одним видом услуг МосБиржи.
— Марина Стешина: Вы планируете представлять информацию именно для инвестиционных продуктов?
— Андрей Бурилов: Информагентства обычно предоставляют данные трех видов: срочную информацию в режиме реального времени, менее срочную информацию – например то, что происходило в течение дня, аналитику на основе собранных данных. Мы планируем остановится на втором типе информации, то есть на предоставление информации для принятия управленческих, долгосрочных решений.
— Владимир Залеский: В каких задачах МосБиржи используется Data Science? Начиная от ML-решений и заканчивая алгоритмами для распознавания, сверточными нейросетями. То есть речь о задачах, в которых «машина» может заменить человека, какой-то поведенческий паттерн.
— Андрей Бурилов: Есть два вопроса в отношении Data Science:
- Как накопленные данные могут помочь в принятии решений?
- Существуют ли недетерминированные алгоритмы, с помощью которых можно получать результат?
На бирже есть несколько направлений, в которых задействованы механизмы Data Science:
- Использование данных для процесса основной торговли помогает принимать решения в части комплаенс и возможных манипулирований рынком.
- В STP-процессах, процессах по распознаванию существенных фактов.
— Марина Стешина: Сегодня мы много говорим о том, что на Московской бирже постоянно растет потребность в автоматизации – и из-за процессов импортозамещения, и в связи с внедрением механизмов Data Science. Как на этом фоне вы решаете вопрос с дефицитом специалистов? Прибегаете к помощи вендоров или используете какие-либо программы для оптимизации работы персонала?
— Андрей Бурилов: МосБиржа – это практически IT-компания. Больше 50% наших специалистов – это разработчики. Поэтому мы развиваем собственную IT-экспертизу, и, одновременно, находимся в постоянном поиске интересных сторонних решений, которые могут быть нам полезны.
Уже в пандемию мы приняли решение, что компания будет работать в гибридном режиме – сотрудники работают и в офисе, и дома. Это позволяет нам искать ребят по всей стране. И подбирать партнеров без ограничений.
Также наше преимущество при поиске персонала – это уникальный сфера разработки. Наш продукт не похож на классические банковские решения. Это тоже привлекает к нам специалистов.
— Владимир Залеский: Как вы относитесь к использованию ускоренных технологий разработки? К технологиям, которые позволяют вовлечь в процесс девелопмента специалистов, не имеющих высоких технических навыков? Речь о low-code/no-code технологиях.
— Андрей Бурилов: Я, как бывший программист, отношусь к таким технологиям прекрасно. В свое время, когда мы только разрабатывали систему, было ясно, что все ребята разные. Кто-то готов заниматься серьезным программированием и создавать целые платформы с нуля, кто-то – хочет занимать прикладной разработкой, быстро собирать работающие системы. Тренд на low-code/no-code – это тренд на создание своего рода функциональных типизированных кубиков и, на их основе, понятных UI-фреймворков. Зачем заморачиваться, если кто-то уже разработал механизм до тебя?
То есть все это идет по спирали. Изначально у разработчиков были фреймворки – фактически тот же low-code, о котором мы сейчас говорим. И с этими фреймворками можно было работать напрямую, не разбираясь в том, как они устроены внутри. И сейчас все то же самое. Ядерные программисты – те, кто занимается хардкодингом – очень дорогие, они не будут просто программировать кнопки. Здесь и приходят те прикладные специалисты, которые работают с уже готовыми платформами, работая в команде с бизнес-аналитиками. То есть я считаю, что сама по себе философия лоукода – верна. Хоть и требует некоторой доработки, разумного подхода.
Обсудить идею или проект
Ответим уже сегодня